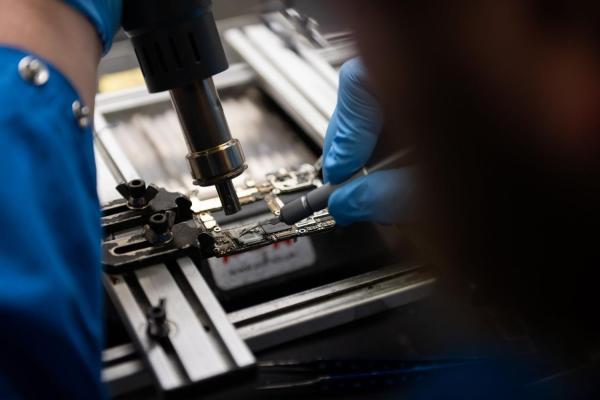Мы как-то незаметно для себя, вошли в новую эпоху – эпоху полупроводников. Без электронных технологий наша жизнь сегодня стала буквально немыслима. Впрочем, не только жизнь, смерть тоже.
Вспоминая величайшие военные технологии Второй Мировой войны, обычный человек как правило говорит о танках. Подводных лодках. Атомном оружии. Но редко кто вспоминает одну из наиболее важных сфер развития научно-технического прогресса тех лет – зарождение и внедрение микроэлектроники, которая в корне изменила не только войну, но и определила развитие человечества на десятилетия вперед.
Микроэлектроника была одним из самых мощных средств в арсенале Соединенных Штатов Америки, начиная с 50-ых годов. Она открывала фантастические возможности в любых направлениях: с ее помощью совершались великие открытия, зарабатывались состояния; она была объектом шпионажа и рычагом шантажа. Вокруг транзисторов и процессоров строилось само ядро ожесточенного противостояния СССР и США в период Холодной войны.
Да и сейчас американские фрегаты бороздят воды Тайваньского пролива не просто так. Сверхдержавы ведут торговые войны, пытаясь замедлить технологический прогресс друг у друга. Накладываются санкции на Huawei, других китайских гигантов бизнеса, Китай отвечает своими мерами, тоже, как оказалось, весьма действенными.
Один из главных трендов этой борьбы – «гонка за нанометрами», ведь производительность микросхемы во многом определяется числом транзисторов, которые удается на ней разместить.
Когда-то оно было невелико – в 1961 году малоизвестный стартап Fairchild Semiconductor объявил о новом продукте под названием Micrologic с четырьмя транзисторами на подложке. Потом научились упаковывать туда десяток, сотню. Один из основателей фирмы, Гордон Мур, предположил, что число транзисторов на микросхеме будет удваиваться каждый год по мере улучшения технологии. Это предположение окрестили законом Мура. И он действует, число транзисторов в схеме продолжает расти экспоненциально вот уже более полувека.
Советский Союз, прекрасно понимая сколь велико значение маленьких микросхем, тоже немало сил вкладывал в развитие производства микроэлектроники. Да, американцам удавалось сохранять первое место, но СССР был уверенным «серебряным призером» и история этой борьбы могла бы стать темой для большой отдельной статьи или целого цикла (там хватает захватывающих эпизодов).
В итоге, к 1980-м годам эта отрасль у нас была достаточно хорошо развита. К сожалению, она же оказалась одной из наиболее пострадавших в результате экономической политики 1990-х годов. Министерство электронной промышленности упразднили, многие кремниевые заводы и отраслевые НИИ закрыли. И сегодня та производственная база, которой мы располагаем, очень сильно отстает от передового мирового уровня. Ведущее полупроводниковое предприятие России АО «Микрон» владеет технологией изготовления интегральных схем по 65-нм техпроцессу, что недостаточно для потребностей современной экономики. Да и имеющихся в стране производственных мощностей явно недостаточно, чтобы закрыть все российские потребности в микрочипах. Положение дел начало исправляться в последние годы, в этом участвуют ученые Академгородка, но этот процесс еще очень далек от завершения.
А что в мире в целом? Оказалось, что СССР был далеко не единственным соперником США в этой технологической гонке. Вот уже несколько десятилетий в этой борьбе участвуют азиатские государства, причем, этих конкурентов американцы частично вырастили себе сами.
В начале 1970-х США сознательно передали Японии передовые технологии, чтобы удержать её от скатывания в социализм. Американцы открыли японцам доступ к богатейшему рынку планеты и закрыли глаза на тотальное копирование с последующим удешевлением и перепродажей тех же разработок обратно в США. К концу 1980-х годов в романах Уильяма Гибсона уже рождался мир, где планетой управляют японские корпорации-кэйрецу. Но на деле допустить этого никто не собирался, пока Гибсон писал «Мона Лиза Овердрайв», США начали переносить технологии к новым игрокам – Южной Корее и Китаю, дабы усмирить и обрушить промышленный потенциал Японии.
Казалось бы, это сработало, Япония действительно скатилась в «потерянное десятилетие». Однако к рубежу 2010-х ситуация изменилась. Вашингтон понял, что теперь уже Китай становится слишком мощным и встал вопрос о его сдерживании.
Центральная идея американской стратегии сдерживания Китая основывалась на технологических ограничениях и санкциях, связанных с разработкой и производством как микроэлектроники, так и оборудования для ее выпуска. Эта мера отлично показала себя против СССР, и потому для американских политиков смотрелась логично и в отношении КНР.
Эта стратегия вылилась в запреты на доступ к EUV-литографии и современным GPU, а также ряд других подобных мер. Достаточно вспомнить историю с атаками на Huawei. Только вот Пекин не покорился обстоятельствам, а взял курс на формирование собственной технологической базы, де-факто независимой от западных корпораций.
Это хорошо видно на примере другого главного тренда развития отрасли – «гонки за искусственным интеллектом», где тоже пока лидируют США, но это лидерство становится все более хрупким.
Как развивалась история вокруг процессоров, предназначенных для обучения нейросетей? В сентябре 2022 года США ввели запрет на поставки в Китай передовых GPU от Nvidia — A100 и H100, которые применялись для обучения крупных моделей искусственного интеллекта. Уже в октябре 2023 года под ограничения попали и специально урезанные для КНР версии – A800 и H800. Если мощность оригинальных A100 и H100 составляла порядка 1,5 и 1,98 PFLOPS соответственно, то упрощённые модификации выдавали около 0,8 PFLOPS.
В результате Nvidia пришлось сделать ещё одну уступку и выпустить ещё более ослабленный чип H20 с производительностью порядка 0,25 PFLOPS. Чтобы было понятнее: серия A базировалась на архитектуре Ampere и массово применялась в 2020–2021 годах, например, при обучении GPT-3 и в рекомендательных системах. Серия H – это уже ядра Hopper, основной флагманский продукт 2022–2025 годов, предназначенный для гигантских моделей вроде GPT-4 и GPT-5. С весны 2025 года топовую позицию заняла новейшая линейка B (Blackwell). При этом сами ядра универсальны: их можно встретить и в домашних видеокартах GeForce, и в профессиональных RTX (бывших Quadro), и в ускорителях для дата-центров (в формате SXM-плат), отличие лишь в конфигурации и наборе активированных вычислительных блоков.
Однако в последние дни Китай сделал неожиданный ход: отказался от закупок RTX Pro 6000D (урезанной версии профессиональной RTX 6000 на архитектуре Ada Generation) и SXM-плат с H20 для дата-центров, заявив о фактическом импортозамещении в сегменте ИИ-железа этого уровня. По мощности RTX Pro 6000D достаточно скромна — около 0,1 PFLOPS, H20 чуть сильнее — до 0,25 PFLOPS. Но ещё пять лет назад даже выпуск ускорителей такого класса казался фантастическим сценарием для китайской микроэлектроники, а сегодня это становится реальностью.
Что мы имеем сегодня? Прежде всего, Китай уже уверенно освоил фотолитографию на уровне глубокого ультрафиолета, позволяющего стабильно выпускать чипы по нормам 7 нм и пробовать 5 нм (пусть пока и с высоким уровнем брака). Одновременно идет развитие собственных микроархитектур графических процессоров и ИИ-ускорителей.
Другими словами, китайцам больше не нужны «огрызки с американского стола». Более того, в разработке уже находятся куда более мощные чипы, такие как Cambricon Siyuan 690, по уровню близкие к H100. На этом фоне акции Nvidia падают, а американская администрация неожиданно отменяет решение о военных поставках Тайваню, который теряет своё особое значение. Заводы, ещё недавно считавшиеся критически важными для Китая, становятся всё менее ценными. И если раньше сохранность их мощностей могла быть фактором сдерживания, то в ближайшей перспективе этот аргумент исчезнет. Это очень показательный пример, как технологии влияют на формирование внешней политики.
А что Россия? Можно ли говорить о том, что наше отставание стало безнадежным? История показывает, что любые долгосрочные прогнозы обычно не сбываются, поэтому воздержимся от окончательных выводов.
В последние годы у нас произошло важное изменение – сформировался устойчивый интерес к развитию микроэлектроники со стороны государства, выделены немалые ресурсы на разработку необходимого технологического оборудования. А это как раз то, чего сильнее всего не хватает сейчас всем нашим производителям.
Понятно, что на решение этой задачи потребуется еще не менее двух-трех лет, и за это время наше отставание будет несколько усиливаться. Но зато мы получим свой ресурс для развития отрасли, не зависящий от импортных поставок. Да, изначально это оборудование будет уступать лучшим заграничным аналогам, но его можно дорабатывать, развивать, тем более догонять всегда немного проще, потому что виден результат, к которому стремишься, больше понимания, как его достичь, можно учиться на ошибках и успехах тех, кто прошел этим путем до тебя. Главное, не сворачивать с этого пути.
Сергей Исаев
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии